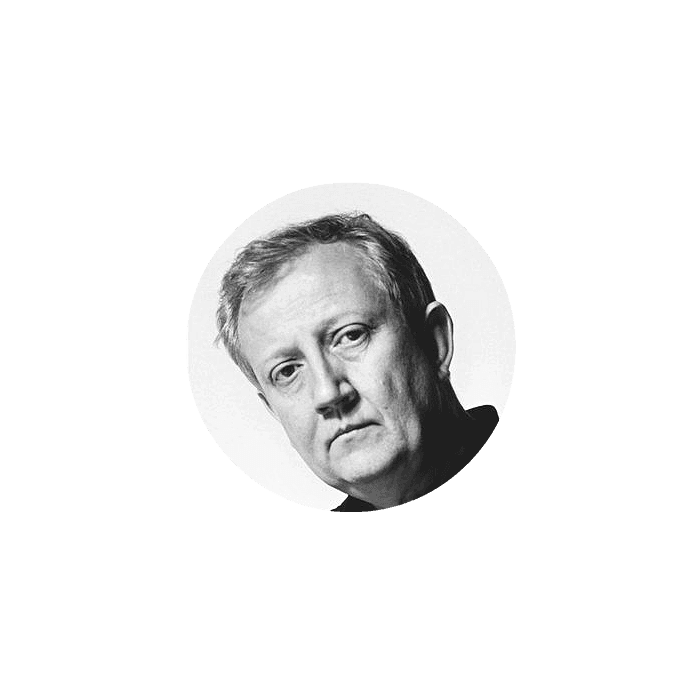
На недавнем концерте Вима Мертенса в ГБКЗ им. Сайдашева аншлаг не случился — возможно, виной тому стала недостаточная медийная известность бельгийского композитора в России. Впервые он приезжал сюда в 2002 году, однако выступил только в Москве. Спустя 17 лет география российских гастролей расширилась, и в числе четырех городов оказалась и Казань. Для тура Мертенс выбрал форму «один на один с роялем», в рамках которой представил как композиции из своего нового альбома, выпущенного в прошлом году, так и классическую Struggle for Pleasure, вошедшую в саундтрек «Живота архитектора» Питера Гринуэя и ставшую джинглом крупнейшего бельгийского мобильного оператора. Главную тему Struggle for Pleasure использовали Energy 52 в своем знаменитом треке Café del Mar, который стал самой прослушиваемой транскомпозицией в мире, а кавер на мелодию авторства Minimalistix в 2000 году штурмовал европейские чарты. Однако Мертенса не волнует популярность и ажиотаж — как признается сам композитор, он по-прежнему стремится к некоей скрытности. Тем не менее казанская публика встретила Мертенса очень тепло — его ждали букеты, крики «Браво!» и овации. А сам концерт, продлившийся полтора часа без антракта, закончился для слушателей довольно внезапно — многие вставали с мест с недоумением, ожидая продолжения свободно лившейся на них музыки. Сочинения бельгийца действительно захватывают — и если в начале создается впечатление, что композиции сливаются в одну, то эта иллюзия быстро пропадает благодаря оригинальным приемам в каждом произведении. Мертенс свободно обращается с формой и композицией, а также своим голосом, который может возникнуть в самый неожиданный момент произведения и так же неожиданно в нем раствориться. При этом отсутствие профессионального музыкального образования и поставленного голоса не мешает исполнению — голос органично вплетается в ткань произведений. Несмотря на то что сочинения Мертенса, разумеется, прошли тщательную редактуру, весь концерт не покидает ощущение, что творческий процесс происходит здесь и сейчас. Бельгиец игнорирует каденции, произведения движутся свободно и независимо от слушательских ожиданий и даже, кажется, ожидания самого композитора, что придает происходящему необычайную свежесть, которая иногда так необходима в академической музыке.
— Вим, я заметила, что европейские композиторы активно гастролируют с концертами, а в России такое нечасто встретишь. Почему это важно для вас?
— Я думаю, в основном это как раз европейский подход, когда написание музыки отделено от ее исполнения. Я же всегда хотел сблизить эти два занятия — теорию и практику. Очень важно, чтобы практическая часть создания музыки была объединена с теоретическим аспектом. А классическая музыка традиционно их разделяет. В 1950–60-е годы музыка на Западе стала слишком интеллектуальной, со множеством условностей и оговорок. И очень важно попытаться вновь объединить практику и теорию. Я всегда искал новую аудиторию, особенно за пределами Бельгии, где родился. Происхождение повлияло на язык, на котором я пою (Мертенс поет на выдуманном им языке — прим. ред.), потому что страна маленькая и у нас три официальных языка — нидерландский, французский, также у нас имеется немецкое сообщество. То есть аспект языка очень важен для нас. В последнее время я развиваю идею о том, что слушатели дополняют партитуру и даже сам процесс ее исполнения, потому что публика своим присутствием гарантирует себе право последнего слова и она вдохновляет музыканта и композитора. В конечном счете определяет произведение именно аудитория, и в 2019–2020 годах необходимо пересмотреть роль и значение публики.
— Среди музыковедов и композиторов сложилась такая терминологическая коллизия — слово «минималисты» охотно употребляют первые и не любят вторые (вы в их числе). Как думаете, почему?
— Музыка, которую определяют как минимализм, — это американский феномен, характерный для небольшого периода с 1966 до 1979 год. Все, что было создано позже, причислили к минимализму больше с целью классификации. Конечно, каждый композитор старается избежать классификаций и четких определений. Я думаю, что минималисты повлияли не столько на стиль будущей музыки, сколько на способ ее создания, ведь композиции 50–60-х, европейский авангард были слишком рациональными, поэтому молодым композиторам стало интересно, возможен ли другой подход. А как вписаться в классификацию — это уже каждый решает сам. В 18 лет я бросил мои уроки музыки, потому что испытывал тогда нечто вроде кризиса. Я должен был пойти учиться в консерваторию, но поступил в университет изучать социально-политические науки и теорию музыки. Я очень интересовался двумя вещами — историей вообще и историей музыки в частности, а также почему происходят изменения в стилях музыкального мышления и творчества. Эти два вопроса всегда занимали меня, и я до сих пор считаю себя музыковедом. Американские минималисты писали концептуальную музыку, а мне это не нравится. Я пытаюсь выдвинуть на первый план голос, который считаю не инструментом, а органом, чем-то очень близким к телу, подвижным, но при этом влияющим односторонне, без взаимной коммуникации. Голос располагается над всем. Как композитор ты должен найти свой голос, но также и принять его таким, какой он есть. Даже если в 1980-х большая часть моей музыки была инструментальной, на нее всегда влиял вокальный аспект. Когда я был ребенком, моим первым инструментом была классическая гитара, которая очень привязана к пению, исполнительству. Возможно, поэтому я с трепетом отношусь к идее сопряжения голоса и инструмента, а не разделения их. В рамках одной композиции или альбома можно обнаружить множество связей между этими элементами.
— Что для вас является главным в работе композитора?
— Здесь есть два важных аспекта. Первый — это наличие повествовательного элемента, а второй — проблема взаимодействия между собой музыкальных инструментов. Каждое поколение музыкантов думает о том, как обеспечить это взаимодействие. Инструменты дружественны друг другу, но одновременно и противостоят. Например, перкуссии по определению не могут нравиться струнные, а струнные, в свою очередь, испытывают трудности с духовыми инструментами. То есть в их взаимоотношениях есть место как солидарности, так и соперничеству. И композитор должен использовать разные приемы и средства, чтобы двигаться от одного инструмента к другому. Можно начать с партии перкуссии и от нее перейти к духовым инструментам, к струнным или наоборот. Есть четыре группы инструментов, а голос — пятая. Он работает только в одном направлении, иногда мы называем его божественной силой. И от голоса ты двигаешься к перкуссии, а от нее — к остальным четырем группам инструментов. Второй важный аспект — в каждой композиции, проекте, концерте должен быть повествовательный элемент. Особенно в моем случае — много лет назад меня очень интересовала поэзия Марины Цветаевой. Когда я впервые приехал в Москву, я был в доме, где хранятся ее личные вещи. Более 20 лет меня очень интересует эта личность и ее жизнь, и теперь я написал для нее композицию, которая называется «Марина». Я нечасто ее играю, потому что произведение еще не вышло в свет, оно записано в инструментальной версии. Над другим произведением, посвященным очень известному математику из России Александру Гротендику, я работал целый год. Он жил во Франции, его отец был российским революционером, а в 1930-х годах и испанским. Гротендик был одним из главных — а возможно, и главным — математиком во второй половине XX века. Посвященная ему композиция, которую я закончил в январе, называется «Что такое метр?». Метр — это мера измерения, но также и музыкальный термин. В конце жизни Гротендик бросил математику, и одна из его студенток пришла навестить учителя. Она встретила его на рынке, а Гротендик сказал ей: «Ты можешь прийти навестить меня, но сначала ты должна написать ответ на вопрос „Что такое метр?“». Студентка сделала, и они встретились вновь. Это центральная фигура в моей часовой композиции, которая будет выпущена в ближайшие годы.
— Вы работали со многими известными режиссерами — Питером Гринуэем, Томом Тыквером, братьями Дарденнами. В чем главное отличие работы над своими проектами от создания саундтреков?
— Над каким бы фильмом я ни работал, везде ситуация разная, нет единого стандарта. Иногда у тебя есть кадры, иногда — только сценарий, иногда — и то, и другое. В большинстве случаев у тебя есть только 6–7 недель, так что тут нужна особенная техника сочинения и записи музыки. Сегодня сделать это гораздо легче, потому что есть оборудование, которое помогает очень хорошо синхронизироваться с постановщиками. Когда создаешь музыку в студии, ты работаешь дольше и можешь больше экспериментировать. Так что в данном смысле это два совершенно разных дела. Я совершенно точно больше композитор, записывающий свои альбомы, чем режиссер. Но иногда очень интересно поработать и над документальными и художественными фильмами.
— Некоторые композиторы пробуют себя и как режиссеры — например, наш Алексей Рыбников снимает фильм со своей музыкой и по своему сценарию. Не думали о подобном проекте?
— Я не вижу себя создателем фильма. Но, думаю, это любопытно, ведь даже Чарли Чаплин писал музыку для фильмов, которые режиссировал. У тебя всегда есть преимущество, если ты умеешь объединить все эти вещи. Но я жду предложений от других, чтобы поработать с ними над интересными фильмами. У меня вышло DVD с 6 вокалистками под названием «То, что ты видишь, — это то, что ты слышишь» (или «Ты видишь то, что слышишь», одна из характеристик синестезии — прим. ред.), в котором я обозначил свое предпочтение прослушивания перед просмотром. Важно объединить в акте прослушивания множество вещей: практику, теорию, подход к исполнению. Это новый способ прослушивания, более крупномасштабный, чем в классическую эпоху. Это, конечно, не означает, что вы не можете создать интересную комбинацию картинки и музыки.
— Вы являетесь приверженцем новых подходов в классической музыке. Как думаете, какие приемы стоит использовать современным композиторам?
— С начала XXI века мы медленно уходим от традиционных категорий — и это хорошо. Мы больше не живем согласно какому-то стилю. В западноевропейской музыке, столетиями связанной с церковью и политическими силами, есть множество концепций, согласно которым композиторы и музыканты должны оставаться в рамках стандарта. И этот стандарт являлся очень сложным и авторитарным, особенно в Европе. Интересно, что сейчас мы уходим все дальше от этого. Я сам часто определяю свою музыку как нестандартную. Для создания нестандартных вещей нужна открытость, готовность к интеграции. У композиторов появилось множество инструментов и способов записи музыки. До моего поколения, до 1986–1987 годов, они не имели доступа к ним. После 7 лет сочинения музыки у меня появился первый компьютер Atari. Я до сих пор в некоторых случаях пишу музыку вручную, но, конечно, мы используем и компьютерные технологии, в частности в препродакшене. Все эти технологии теперь взаимодействуют, и у молодого поколения больше нет оправдания, что технические инструменты им недоступны. Если молодым людям есть что сказать и у них имеется доступ к инструментам, они могут начать делать собственную музыку, и это интересный феномен нашего времени.
— Что вы думаете об искусственном интеллекте, который может писать музыку? Сможет ли он занять место в одном ряду с композиторами?
— Меня всегда интересовал искусственный интеллект — сначала как фантазия. В музыке ты непременно сталкиваешься с вопросом «Что представляют собой традиционные функции инструментальных групп?». Струнные возникли как средство имитации голоса, его мелодичности. А теперь мы пишем музыку специально для струнных или духовых. Использование перкуссии в традиционной западной музыке было очень ограничено, потому что они не должны были соперничать с чистым звуком струнных и духовых. Вот почему теорба (струнный щипковый инструмент, басовая разновидность лютни — прим. ред.) и другие старинные струнные инструменты исчезли из состава оркестра. Как гитарист я хотел вернуть данный тембр и уйти от этого искусственно чистого звука. Вот почему я систематически делал очень специфические композиции — например, цикл, состоящий из 37 часов музыки, который я назвал Qua. В нем можно получить представление о взаимодействии различных инструментов, о котором мы уже говорили. Цикл был выпущен в очень ограниченном количестве, потому что я до сих пор хочу оставаться немного закрытым, замаскированным. Если ты меняешь правила, если ты больше не говоришь — струнные должны быть мелодичными… Фортепиано тоже воспроизводит мелодию, но у него есть и перкуссионные возможности. Все данные функции могут быть перевернуты — и это для меня начало искусственного интеллекта. Если ты продолжаешь использовать традиционные функции инструмента, как это было веками, ты не приблизишься к искусственному интеллекту. Конечно, настоящий ИИ может пойти дальше. Музыка часто функционирует в очень четком контексте, определяемом обществом, религией или политикой. Но в то же время почти всегда она находит способ вылететь из этих рамок. Здесь мы сталкиваемся с внутренней двойственностью музыки, которую я обозначил в моем последнем релизе под названием «That Which Is Not» («То, чего нет»). Я всегда считал, что управляюсь с данной двойственностью. Возможно, это качество, которое отличает хорошего музыканта.
— В своих интервью вы много говорите о том, что процесс творчества должен быть нестандартным. А может ли быть таким процесс слушания? Можно ли как-то преобразовать стандартные зрительные залы, способы восприятия музыки?
— Это должно быть естественной эволюцией. Мне очень повезло играть в разных декорациях для моей музыки — в Греции в порту, в Мексике на вулкане. Часто у нас были непривычные локации, которые дают необычный опыт. Конечно, нам нужны и традиционные концертные залы — при условии, что они позволили бы оркестрам играть новую, современную музыку.
— Оркестры в России чаще включают в свой репертуар произведения композиторов-классиков, а процент исполняемой современной музыки гораздо меньше. Как вы думаете, должны ли оркестры включать ее в репертуар или сперва нужно познакомить публику с историей классической музыки?
— У нас в Европе похожая проблема, ситуация ненамного лучше. Вот почему с 2005 года я начал сотрудничать с симфоническими оркестрами. Я записывал диски с оркестром Тенерифе, делал студийную запись с бельгийским Radio Orchestra, в прошлом мае поехал в Мексику создавать большое шоу с симфоническим оркестром. Очень важно, чтобы композиторы стремились делать такие коллаборации, выступать с симфоническими оркестрами. Потому что у них очень ограниченный репертуар, и, если мы в ближайшее время не наладим сотрудничество оркестров с композиторами, первым придется исчезнуть, поскольку у них больше не будет значимой функции, они потеряют связь с молодой аудиторией. Сейчас среди публики преобладает более старшее поколение, которому нравится переслушивать музыку, что тоже нормально, но для музыкантов оркестра и самого этого института очень важно иметь новый репертуар, новые подходы к исполнению — например, я ставлю рояль перед оркестром, у меня есть микрофон, и я пою вместе с оркестром и дирижером. Я предпочитаю работать с местными коллективами и дирижерами, иногда предлагаю своего дирижера. Надеюсь, что в будущем я смогу приехать в Россию и сделать коллаборацию с симфоническими оркестрами или камерными коллективами. Репертуар есть, мы просто должны найти людей, которые бы взялись за эту инициативу.
— Есть уже какие-то музыканты на примете?
— У вас есть очень интересный пианист — Антон Батагов из Москвы. В одном из альбомов он сделал отсылку к моему имени, моей музыке. Он также композитор, перформер, очень интересный человек. Кроме того, Батагов работает в США. Если говорить о музыкальных коллективах, то нужно лучше изучить этот вопрос.
Интервью подготовила Валерия Завьялова. Материал опубликован на сайте газеты «БИЗНЕС Online» 7 марта 2019 года. Фото: Ирина Ерохина.
Информация о Виме Мертенсе в альманахе композиторов